«Тактильные» истории о войне
Председатель Николаевской областной организации союза писателей Украины Вячеслав Тимофеевич Качурин «направляет» ко мне начинающих авторов. В городе нет своего художественно-публицистического журнала, соответственно, нет критики. А без критики, как известно, литературный процесс мертв.
Приходят разные люди, приносят книжки, напечатанные за собственные деньги. Нужно все прочесть, написать рецензию и дать (или не дать) рекомендацию для вступления в союз писателей. Таких рекомендаций начинающие литераторы должны собрать три штуки, чтобы отправить их вместе с другими документами в Киев или Москву.
«Молодым» авторам в Николаеве почти всем под 70 лет и более. Они приносят стихи и прозу, приносят повести, романы и рассказы. Литература разная по жанрам и качеству. Однако все тексты объединяет искреннее желание донести к потомкам свое эмоциональное восприятие прошлого.
Набралось более двух десятков очерков о Великой Отечественной войне, о нашем городе и горожанах. Это «тактильные» (осязательные) истории бытовой жизни, которые происходили с конкретными людьми в Николаеве в период немецкой оккупации с 16 августа 1941 года по 28 марта 1944-го. Все авторы разрешили опубликовать свои тексты. Мы не стали менять стилистику повествования, чтобы cохранить «дыхание времени».
Вячеслав Шарапа. «Отголоски», Херсон, 2002, С. 9-12.
«… А между тем, в августе 1941 года немцы вошли в Николаев. В районе Темвода они организовали лагерь для военнопленных. И в первое время многие женщины ходили туда и забирали наших солдатиков под видом того, что это их мужья. Но, когда лагерь стали охранять калмыки, то эта форточка мгновенно захлопнулась.
В Широкой Балке начались расстрелы. Расстреливали большей частью евреев – стариков, женщин, детей… Как-то один немецкий солдат отказался стрелять. Тогда офицер застрелил его, оттолкнул ногой труп и сам лег за пулемет. А когда кто-то заметил, что, мол, там же дети, то эсэсовец, хорошо владевший русским языком, отрезал:
- Он сейчас маленький жид, а вырастет – станет большой жид!
Этот офицер, майор СС, стал на постой в доме Ивана Яковлевича. Он занял столовую и спальную комнату. Одну комнату занимали родители отца с братом Александром, а еще одну - я с матерью. Иван Яковлевич был не призывного возраста, а Сашка – инвалид без обеих ног с протезами (ноги отрезало трамваем). Сашка был рисковый и верховодил над сверстниками. Подчинялись ему беспрекословно. Всю оккупацию они грабили немецкие склады в районе порта. Шоколад, консервы, галеты и все такое прочее. А прятали все это у нас в сарае, в сене.
Мама боялась, что это добром не кончится, и как-то говорит свекрухе:
- Мама, если немцы об этом узнают, то расстреляют всех. И Славика тоже…
- Молчи! Не твое дело! – осадила ее свекровь.
Но Бог оказался милостив – пронесло… На биржу труда маму определили работать сначала на железную дорогу, а потом в прачечную, которая находилась рядом с домом. Соседка, Александра Капитоновна Рыбакова, подарила ей швейную машинку «Зингер» и научила шитью. Из ворованных простыней мама шила мужские трусы, которые немцы на толкучке раскупали вмиг (обожали белое белье). Вырученные деньги позволяли держаться на плаву.
Но в один из моментов это зыбкое благополучие едва не прервалось. Угоняли очередную партию молодежи на работу в Германию. Маму тоже вызвали, и она могла там сгинуть навечно. Но кто-то ее надоумил накануне медкомиссии выпить сто грамм водки и съесть головку чеснока. Сердце готово было выскочить из груди. Врач прослушала, смерила ее долгим взглядом и коротко бросила «Нихт!».
… К концу 42-го наступление немцев окончательно захлебнулось. Пьянки, которые так любил гер майор, все еще продолжались, но уже без песен. Те, кого отправляли на Сталинградский фронт, напивались до бесчувствия и плакали, как дети. Война покатилась в обратную сторону. Немцы, будучи крохоборами, стали подгребать все, что попадалось на глаза. Как-то, уже перед самым отступлением, двое из них хотели снять с Анны Яковлевны ладные хромовые сапожки. Но она подняла такой крик, что они в итоге отступились, но зло затаили. Потом один из них сказал маме, что, мол, когда они будут уходить, то бабке сделают «пук-пук».
Несмотря на неприязненные отношения, мама предупредила об этом свекровь. Как-то в разгар одной из пьянок Анна Яковлевна вошла к ним в столовую с подносом, на котором горой возвышались свежеиспеченные пончики в масле.
- О-о, гут, гут… - обрадовались солдаты и стали брать угощение. Когда поднос опустел, она выдержала паузу и обратилась к майору:
- Фаина сказала мне, что вы, когда будете уходить, меня расстреляете…
- Что?!.. Фани?.. – взревел майор. – У-у, юда!!..
Маму выволокли из постели, втащили в столовую и поставили к стене. Немцы встали из-за стола, устроились в углу комнаты рядом с пианино. Майор вынул пистолет, обтер его платком и сказал маме, что он выстрелит три раза: рядом с левым ухом, затем – с правым и… ткнул в левую часть ее груди… Первый выстрел – осыпается штукатурка слева, второй выстрел – справа. Затем долго целится в грудь, усмехается и опускает пистолет. Мама потеряла сознание, кто-то из немцев открыл дверь и я бросился к ней. После этого несколько суток она бредила, не приходя в сознание. Когда очнулась, в городе уже были наши…
В 1944-м в Николаеве стали отдавливать полицаев и топить их в выгребных ямах. Захлебываясь дерьмом, они дико орали. Годы спустя, когда я уже был взрослым, их черепа и кости то и дело попадались в черпаки золотарей. Но некоторые на тот момент успели схорониться. Их только потом посадили. Отсидев, они вернулись и воспитали своих детей и внуков…».
Владимир Павленко. «Близкое далеко». Черновцы, 1999, С. 28-29.
«… Нам мальчишкам все время хотелось есть и хотелось так, что сводило живот. Мы ели цвет акации, ходили на поля «выливать» сусликов из нор, но самое большое лакомство – воробьи. Сейчас они людей не боятся, а в войну, чтобы поймать воробья, требовалось большое искусство и терпение.
В 1942 году мне было 12 лет, и жили мы с сестрой и бабушкой на Дальнем Водопое, в том месте, где были старые карьеры известняка и разрушенные печи.
Возле железнодорожного переезда росла большая роща из старых акаций и кустов терена. В этой посадке мы ловили воробьев. Как-то раз я и мои друзья – такие же двенадцатилетние мальчишки – Володька Гава, Федор Сапильняк и Леонид Борщик взяли старые рыбачьи сети и отправились ловить воробьев. Не знаю почему, но местные полицаи не разрешали ставить сети и рыбачить в Ингуле. Поэтому мы отправились на ловлю воробьев рано утром, чтобы не попасться с сетями патрулю.
Все складывалось хорошо. Володя Гава умел свистеть и приманивать птиц. К полудню у нас набралось уже тушек 20-25. Мы развели огонь, ощипали свою добычу и нанизали воробьев на самодельные проволочные вертела.
Вдруг послышался шум моторов на другой стороне карьера. Мы быстро затушили костер и затаились в высокой траве.
Со стороны переезда приближались три немецких грузовых машины. Они остановились по другую сторону оврага в 50 метрах от нашего укрытия. Из первого грузовика вышел офицер и стал отдавать какие-то команды. Выскочили солдаты, открыли задние борта кузовов и стали выталкивать людей. Мужчины были босые, без ремней, они поддерживали брюки руками. Женщины были в летних платьях.
Офицер что-то приказал и все начали раздеваться. Володька толкнул меня в бок: «Смотри…». Отдельно стояла Софка Ревкина, которая училась вместе с нами в школе. Она была в светлом платье и руками запахивала кофточку на груди. Она не раздевалась, и несколько женщин тоже не хотели раздеваться. Тогда офицер подошел к Софе и показал, что нужно снять одежду. Софа отвернулась. Офицер рукой попытался сорвать с нее кофточку, но Софка оттолкнула его и женщины, которые тоже не хотели раздеваться подошли к ним вплотную. Офицер вынул из кобуры пистолет, выстрелил Софе в голову. Женщины завыли и стали медленно снимать одежду. Офицеру этого показалось мало, и он застрелил еще двух женщин. Все сразу разделись. Солдаты заставили сбросить тела убитых в овраг, построили всех в две линии и… тут вдруг истошно заорал Володька Гава. Не знаю, что на него нашло, но орал он как сирена. Нас обнаружили, солдаты бросились к нам через карьер. Мы рванули в другую сторону. Леня Борщик был одет в зеленую рубаху. Немцы, наверное, подумали, что мы беглые пленные и стали стрелять в нас. Одна пуля шаркнула Гаву по ноге, но мы убежали на старую свалку и сидели там дотемна. Домой вернулись поздно ночью. Старшая сестра надавала мне подзатыльников…».
Виктор Борцов. «Мамалыжники чертовы!..». Херсон, 2003, С. 39.
«Перед тем, как покинуть Николаев, наши саперы взорвали склады, которые были рядом с элеватором. Зерно горело три дня. Жители Варваровки и окрестных хуторов ходили на пепелище и растаскивали уцелевшие мешки с зерном. Мы с братом тоже принесли домой четыре мешка кукурузной муки, и спрятали их в погреб.
Зимой 43-го румыны позабирали коров, свиней и даже кур, потом забрали запасы картошки и овощей. Началась голодуха. Старые люди в Варваровке незаметно умирали у себя в хатах. Наши соседи Зотовы долго не показывались на людях и не приходили в церковь. Когда отец Георгий послал к ним прихожан, то дома застали только их мерзлые трупы, обглоданные крысами. Старики умирали тихо, а молодые пытались как-то прокормиться.
Кукурузную крупу в погребе румыны не нашли и мама решила весной печь мамалыгу. Она вставала с утра, заводила печь и пекла. Затем кормила нас. После этого накладывала полную корзинку горячих лепешек и отправляла меня с братом на мост торговать.
Возле моста со всей Варваровки собирались люди, продавали сухую рыбу, водку и макуху. Многие меняли одежду на продукты. Мы становились прямо в начале моста и предлагали румынским солдатам мамалыгу. Покупали ее очень хорошо. Расплачивались румыны и советскими рублями, и своими леями, и даже немецкими марками. За одно утро нам удавалось наторговать денег на три банки тушенки и каравай хлеба.
Так мы пережили весь февраль и март 1943 года. В апреле румыны два раза проводили реквизиции. У людей забирали все. Баба Катя сказала, что у нее даже вытащили из печи казан с вареной картошкой. Однако наш погреб в огороде не нашли.
Мама продолжала печь лепешки, а мы по-прежнему ходили на мост торговать. Все шло хорошо до тех пор, пока однажды к нам не подошел становой из управы (начальник полицейского околотка). Он развернул наш рушник, достал горячую лепешку и откусил. «М-м, - поднял палец вверх, - вкусно…». Съел лепешку, затем взял нашу корзинку и пошел. Мы опешили от неожиданности. Мой маленький братишка догнал его, уцепился за ручку и хотел вырвать корзину. Становой ухмыльнулся, поднял его за штаны и выкинул через перила моста в воду.
В апреле вода еще холодная и брат не умел плавать. Он сразу ушел под воду. С большим трудом мне удалось его вытащить на берег. Домой пришли поздно, мокрые и без еды. Мама быстро согрела нам травяного отвара против простуды, затем уложила спать.
Рано утром в дверь забарабанили прикладами. Пришел становой с двумя полицейскими. Они вызвали маму на двор, громко говорили с ней. Мы забрались на чердак и смотрели через щель, как она повела их в огород и показала наш тайный погреб. Румыны вытащили три мешка крупы, погрузили их на телегу и уехали.
Мама пришла тихая. Она долго ничего не говорила, смотрела в угол. Затем ударила ладошкой по столу
- Мамалыжники чертовы!.. - Повернулась к нам. – Собирайтесь, пойдем к бабушке в Лоцкино, здесь житья не будет…».
***
Все меньше остается живых людей, которые являются носителями памяти «истории повседневности» Великой Отечественной войны. Сегодняшняя историческая наука активно разрабатывает методы реконструкции прошлого через эмоциональное восприятие событий отдельными личностями.
Конкретный человек не мыслит высокими абстрактными категориями такими, как «общество», «государство», «народ», «агрессор» и т.д. Каждый воспринимает историю, как цепь событий, которая касается его непосредственного бытия, вопросов экстремального выживания в условиях войны, террора и голода.
«Тактильные» истории бытовой жизни – это не идеологизированные воспоминания о минувшей войне. Мы рискуем их скоро совсем утратить.
Будем благодарны нашим землякам, которые до сих пор помогают нам сохранить эмоциональную память о жестоком времени.
 Последний день зимы: в Николаеве вовсю цветут подснежники (фото, видео)
Последний день зимы: в Николаеве вовсю цветут подснежники (фото, видео) Обесточенный трамвай перекрыл движение по проспекту в Николаеве: образовались пробки (видео)
Обесточенный трамвай перекрыл движение по проспекту в Николаеве: образовались пробки (видео) На Южном Буге пожар – горят заросли камыша (видео)
На Южном Буге пожар – горят заросли камыша (видео) Шокирующая правда о наркотиках и трагический конец: на сцене николаевского театра показали «Вписку»
Шокирующая правда о наркотиках и трагический конец: на сцене николаевского театра показали «Вписку»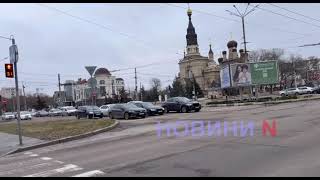 Минута молчания в центре Николаева: память погибших почтили не все
Минута молчания в центре Николаева: память погибших почтили не все Офицер ТЦК за 20 тысяч долларов оформлял «бронь» военнообязанным «под ключ», - ГБР
Офицер ТЦК за 20 тысяч долларов оформлял «бронь» военнообязанным «под ключ», - ГБР Спецназ ГУР наступает на юге Украины: подробности (видео)
Спецназ ГУР наступает на юге Украины: подробности (видео) Николаев атакуют вражеские беспилотники: горожане слышат их звуки (видео)
Николаев атакуют вражеские беспилотники: горожане слышат их звуки (видео) Так начиналась война в Николаеве: видео первых ударов по городу
Так начиналась война в Николаеве: видео первых ударов по городу













