Еврейский Чехов

Давид Айзман
«…Жюль живет спокойно, беззаботно, и огорчения у него такие же? Большим уважением или весом в деревне он не пользуется, если бы не абсент, его бы выбрали муниципальным советником. Теперь не выбирают - ну так что! Абсент от этого менее крепким сделался? Абсент всегда абсент, и выборов он не боится.
Жюль находил время возить докторшу на практику по соседним деревням. Пока докторша у больного, Жюлю выносят угощение, вина или водки. В одном доме, в другом, в третьем... Если с угощением медлили, Жюль уходил в кабак и угощался сам. Дело в том, что когда человек в пути, то не хорошо, чтобы горло было сухо. Работающему человеку вообще надо выпить. Белоручки всякие - это, конечно, другое дело. Пером туда-сюда, в книжках там, прошение какое надо написать, составить опись, - это и без выпивки можно. А человеку трудящемуся надо, чтобы был фундамент, чтобы по-настоящему было. Человеку трудящемуся сила нужна. А без вина откуда сила? От вина у человека кровь очищается…».
(Айзман Д.Я. Их жизнь, их смерть. «Круг». Альманах артели писателей. М-Л; 1924, кн. 3. С. 157)
Если бы под этим текстом не стояли выходные данные с фамилией автора и названием произведения, то можно было запросто отнести этот прозаический отрывок перу Зощенко или Аверченко. В конце ХХ века подобная стилистическая парадоксальность была присуща и творчеству Сергея Довлатова.
Меж тем, это всего-навсего часть небольшого рассказа Давида Яковлевича Айзмана – замечательного николаевского писателя, о котором хорошо отзывались Максим Горький, Иван Бунин и Леонид Андреев. Его ранняя проза породила множество различных подражаний. Бытописательство «под Айзмана», по словам Горького, стало «болезнью начинающих литераторов в России».
Литературные критики «серебряного века» называли Давида Айзмана «специалистом по еврейскому вопросу» и «еврейским Чеховым». Он был далек от маргинальной националистической публицистики. Его причисляют к толерантному русско-еврейскому направлению в литературе, представители которого исповедовали либерально-демократические ценности.
Однако Давид Айзман был фигурой загадочной и противоречивой. Причины его творческих «шараханий» до сих пор пытаются объяснить литературоведы и… объясняют не очень убедительно.
Рисовальщик
Давид Айзман родился 26 марта 1869 года в Николаеве. Семья мелкого еврейского оптовика - зерноторговца была многодетной: четверо сыновей и две дочери. Детей родилось в два раза больше, но три девочки и два мальчика умерли во младенчестве.
С раннего детства Давид много читал. Проблем с книгами не было. У одного из его старших братьев Григория в городе на улице Никольской был книжный магазин и при нем библиотека для чтения.
Познавать мир через книги - большое искушение. Стоит прочесть «Жизнь животных» Альфреда Брема и весь дом сразу наполняется засушенными ящерицами, чучелами байбаков и полевых мышей. Если под руку попались «Растения Амазонки» Уильяма Статта, значит комната будет завалена гербариями растений и цветов, а когда брат подарит годовую подписку журналов «Фотографический вестник», то в дальнем чулане появится химическая лаборатория, и все карманные деньги уйдут на реактивы.
В одиннадцать лет все мимолетные увлечения остались в прошлом. Маленькому Давиду попался в руки шикарный немецкий альбом с гравюрами «Wir zeichnen den Menschen» («Анатомия для художников»). Он стал рисовать.
Карандашные изображения соседских мальчиков и девочек, которым не нужно платить за получасовое стояние на солнце, выходили удивительно похожими. Портрет больного отца, выполненный акварелью, купил за целых два рубля старший брат, а дочка кантора из хоральной синагоги расплатилась за рисунок дорогим набором масляных красок.
Будучи взрослым, Давид Айзман вспоминал: «… Страсть к рисованию настолько поглотила, что я перерисовал всех в округе и стал надоедлив. Взрослые, занятые своими будничными делами, отсылали меня к соседям, соседи к своим детям, дети, пресытившиеся моим увлечением, не хотели позировать и убегали…».
Однако вскоре безмятежное время закончилось. В 1881 году после долгой болезни умирает Яков Айзман. Двенадцатилетний Давид вынужден самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. По настоянию брата он сдает экзамены и поступает сразу в 4-й класс Николаевского реального училища. После занятий дает уроки рисования купеческим детям, пишет портреты на заказ и выполняет чертежи архитектурных планов. Эти подработки помогают ему в 1886 году благополучно окончить заведение и… оглядеться по сторонам.
Литературные опыты
В семье Давида Айзмана двое старших братьев были связаны с литературой. Моисей Айзман в конце 80-х годов ХIХ века уже опубликовал несколько повестей и один роман на идиш. Его книги читали во всех еврейских колониях и местечках. Григорий – владелец книжного магазина – одно время редактировал николаевскую газету «Южанин» и считался неплохим публицистом. Именно он предложил Давиду попробовать себя в журналистике за… небольшой гонорар.
Первый фельетон «Камень» был напечатан в мае 1885 года. Сюжет непритязательный: Спасский спуск, рядом с обочиной лежит большой гранитный камень. Время от времени, колеса фаэтонов, пролеток и телег цепляют его осью, гнут спицы и ломают обод. Камень лежит давно, все к нему привыкли. Местные извозчики объезжают привычное препятствие и удовлетворенно наблюдают, как иногородние дилижансы ломают о «родной» булыжник колеса. Камень для своих ломовиков, действительно, родной. Это своеобразный маркер. Тот, кто налетел на него – чужой, объехал – свой. И вот однажды на дороге остановился междугородный дилижанс. Из него вышел хорошо одетый крепкий господин, поднял камень и выбросил его в кювет.
«…Пусто стало на дороге, осиротел Спасский спуск без привычного камня. – Иронизирует автор и развивает сюжет дальше. – Поздно вечером возле злополучного места собрались несколько ломовиков, поднатужились и водворили камень на место. Мир обрел привычную гармонию и порядок».
Таких фельетонов студент-реалист Айзман опубликовал в газете «Южанин» целых четыре штуки. Фельетон – сложный жанр, он требует внутреннего ритма и сжатой драматургии. Молодой журналист сразу обратил на себя внимание редакторов местных газет.
В 1889 году Давид уезжает в Одессу и поступает в рисовальную школу. Параллельно он плотно сотрудничает с редакцией «Одесского вестника», где продолжает публиковать под псевдонимом «Кулик» свои фельетоны (две копейки за строчку). Два из них - «По родным болотам» и «Очерки провинциальной жизни» - позднее войдут в семитомное собрание его сочинений.
В 1896 году Айзман оканчивает рисовальную школу с бронзовой медалью, получает именную стипендию и уезжает в Париж, чтобы продолжить занятия живописью в Школе изящных искусств. Однако с изящными искусствами не сложилось. Победила литература. Давид вызывает к себе жену – практикующего врача, бросает школу и поселяется в глухой французской деревушке в Шампани. Здесь он полностью отдается писательскому творчеству. От стипендии молодой литератор отказался, поэтому супруга содержала его целых восемь лет. Восемь лет «тепличной жизни» и…Давид Яковлевич Айзман превратился в маститого писателя.
Восемь лет «тепличной жизни»
Во французской глубинке бывший рисовальщик создает несколько литературных продуктов, которые приносят ему известность. Он пишет небольшой рассказ «Их жизнь, их смерть» о судьбе крестьянской семьи, где родители безмерно пьют и рождают дефективных детей, которым с грудного возраста дают вместо молока вино.
Затем появляются очерк «Немножечко в сторону» и цикл рассказов «Черные дни», принадлежавшие жанру психологической прозы. Позднее Виктор Шкловский напишет самую короткую рецензию на эти произведения: «…Давид немного напутал с географией. Деревня в Шампани у него напоминает еврейское местечко в Бессарабии, а все действующие лица прибыли из родного Николаева».
Тем не менее, несмотря на разноречивые мнения, в 1901 году редактор популярнейшего журнала «Русское богатство» Николай Михайловский
публикует в майской книжке французские рассказы своего корреспондента. Давид Айзман сразу оказывается в ряду таких мэтров, как Короленко, Анненский, Мамин-Сибиряк, Станюкович, Глеб Успенский, Гарин-Михайловский, Вересаев и Максим Горький.
В глухой французской провинции Айзман теперь состоит в тесной переписке со всей литературной элитой России. В сентябре 1904 года он высылает Горькому рассказ «Ледоход». Последнему импонирует позиция молодого писателя в «еврейском вопросе», которая «чужда националистической ограниченности и призывает к единению во имя всеобщего освободительного движения». Будущему лидеру пролетарской литературы казалось, что любое этническое начало в прозе неизбежно порождает махровый шовинизм.
«Ледоход» - самая тоскливая новелла Давида Айзмана. Сегодня ее читать совершенно невозможно, потому что сюжет рассказа актуализирован политическими проблемами столетней давности, о которых современный читатель не имеет понятия. Вся фабула повествования заключена в статичной дискуссии между родственниками: сестрой, стоящей на позиции воинствующего сионизма, и братом, который является убежденным социал-демократом и интернационалистом. Спор заканчивается ничем. Каждый чувствует свою правоту и… «отправляется своим путем».
Горький был в восторге от рассказа, он тут же опубликовал его в пятом сборнике издательства «Знание» и предложил Давиду Айзману «вместе трудиться дальше». Тепличный период жизни закончился, писатель вместе с женой вернулся в Россию.
От классовой борьбы до порнографии
В последующие два года Айзман полностью попадает под влияние Горького. Он выступает, как бытописатель самых обездоленных слоев еврейской бедноты. Из рассказа в рассказ кочуют одинаковые сюжеты о том, как старые родители горестно благословляют своих детей-революционеров в трудную жертвенную дорогу на верную смерть («Гнев», 1905 и «Ледоход», 1904). Или о душевных метаниях старого еврея, сошедшего с ума от зверств и погромов, мечтающего уничтожить страшное сердце бытия – источник мук, обид и унижений («Сердце бытия», 1907 и «Домой», 1908).
Максим Горький печатает восторженные рецензии на прозу Давида Айзмана. В каждом сборнике «Знания» появляются повести и рассказы молодого писателя. В 1907 году выходит первый том его сочинений.
Однако настоящую европейскую известность Айзману приносит публикация трагедии «Терновый куст». Действие пьесы разворачивается грозным летом 1905 года в маленьком еврейском местечке на юге России (без труда узнается Николаев). Семья лудильщика Самсона переживает жестокую нужду. Его дети включаются в революционные сражения и один за другим погибают. Красной линией отбиты рост классового самосознания еврейских низов, стремление молодежи подражать революционеру Манусу, который совершает террористический акт и умирает на виселице - таковы узловые моменты сюжетной схемы «Тернового куста».
Эту трагедию автор посвятил лично Алексею Максимовичу Горькому. Поэтому поток хвалебных рецензий буквально захлестнул российскую и зарубежную периодику. Анатолий Луначарский подытожил благожелательные отзывы в большевистском журнале «Вестник жизни»: «Драма Айзмана есть, действительно, трагедия, и притом реалистическая, социальная трагедия, в которой люди оказываются орудием необходимости, но необходимости совершенно понятной - неизбежной, непреклонной борьбы старой и новой России...».
На фоне звездной популярности Давиду Айзману приходится в России нелегко. Ему запрещено жить за чертой оседлости, и он вынужден перемещаться по стране с подложным патентом приказчика.
1905-1907 годы – время самых жестоких погромов на юге империи. Жена, которую писатель отослал в Одессу, донимает его тревожными письмами и просьбами «немедленно бежать».
Айзман прибывает в Одессу, твердо отказывается от предложения еврейских боевиков вступить в отряд самообороны, покупает билет на ближайший пароход и уезжает в Италию.
Здесь все спокойно, можно расслабиться и начать рефлексировать по поводу жестоких погромов в Кишиневе, Одессе и Николаеве.
В Италии Давид Айзман пишет две повести «Кровавый разлив» и «Утро Анчла». В них он дает предельно натурализованное описание еврейского погрома в Николаеве. Позднее Иссак Бабель не решится дать такую жестокую картинку этого события, он намеренно сгладит ситуацию, чтобы угодить Горькому.
Вот выдержка из повести «Кровавый разлив»: «…За угломъ, на Рождественской улицѣ, громили... Уже бѣлой была мостовая отъ перьевъ, уже усѣяна была она обломками мебели, и на синемъ фонѣ неба странно раскачивалась и вздувалась вѣтромъ выброшенная изъ третьяго этажа и зацѣпившаяся за телеграфную проволоку розовая юбка. Грохотъ стоялъ, звонъ, лязгъ, дикое, радостное гоготаніе... Въ окнѣ третьяго этажа показался Кочетковъ. Откинувъ голову, скаля зубы и показывая свою крѣпкую юношескую шею, онъ поднималъ надъ головой, колесами вверхъ, бѣлую дѣтскую колясочку.
- Тихонъ... Тихонъ!..
- Лови, братцы!.. Жиденка унесли, да мы - ничего: сейчасъ и его сыщемъ... Лови!
Когда толпа ушла. Въ квартирѣ стало совершенно тихо. Абрамъ, почти совсѣмъ оголенный, брошенъ былъ на обнаженное тѣло дочери. Хана лежала тамъ же, гдѣ свалилась, и въ ротъ ей вдавлена была отрѣзанная, залитая кровью, грудь дѣвочки.
Еще пятьдесятъ часовъ длился погромъ. А потомъ, когда онъ прекратился, началась страшная работа. Начали разыскивать и подбирать убитыхъ людей и недобитыхъ, и остатки людей, отрѣзки, - руки, уши, ноги, груди. Тѣла, съ вколоченными въ нихъ гвоздями, еще дышавшія и уже застывшія, подбирали. Обгорѣлые трупы и раздавленные; ввутренности, вырванныя изъ утробы, и мертвецовъ съ пустою утробой. Въ одиночку лежали мертвецы и цѣлыми семьями, отцы на дѣтяхъ, съ братьями сестры, подлѣ слугъ хозяева, посинѣлые, багрово-черные, вспухшіе, раздутые, въ липкихъ лужахъ гнилой крови. Лежали, гдѣ засталъ ударъ, на лѣстницѣ, въ чуланѣ, въ печкѣ, на коврѣ, у остатковъ фортепьяно,-- и тамъ лежали, куда успѣли отползти, осыпанные ударами, полуживые. Лежали лицомъ къ землѣ, въ зловонной грязи, и глазами кверху, къ вѣчному небу».
Натуралистическое описание зверского погрома заняло в тексте целых четыре страницы. Горький был взбешен. Ему казалось, что надежный Давид Айзман предал идеалы общей освободительной борьбы и ударился в «слезливое местечковое еврейство». Он пишет своему издателю Ивану Ладыжникову в Берлин: «… Давид не может победить в себе сиониста. В теплой Италии глазами очевидца он пишет журналистский репортаж о кровавом погроме и переносит всю вину за злодеяния не на самодержавных чиновников и не на помещиков-черносотенцев, а на весь темный русский народ, у которого зверь сидит изначально внутри, в природе самой русскости… Это прямой путь к шовинизму…».
Айзману не удалось стать партийным пролетарским писателем. Его сил хватило только на то, чтобы быть недолгим попутчиком Горького. Окончательный разрыв между двумя литераторами произошел тогда, когда Давид Яковлевич опубликовал в издательстве Михаила Арцыбашева «Белый роман» и «Черный роман» под общим заголовком «Любовь».
Это эротические переживания деревенской девушки-француженки на фоне белого пейзажа цветущих яблонь, где смакуются перипетии чувственной связи опустившегося пропойцы-кюре с полубезумной монахиней. Здесь, по мнению критиков, «господствует поэтика ужасов, мрака, и утверждается торжество низменных инстинктов. Автор временами не удерживается на тонкой линии и сваливается с эротического описания в порнографию…».
В конце 1909 года Давид Айзман возвращается в Россию. Он пишет еще цикл пьес: «Семейные дела», 1910; «Правда небесная», 1912; «Латинский квартал»,1916 и «Консул Гранат» 1918. С 1911 по 1916 годы издательство «Просвещение» выпускает собрание его сочинений в семи томах.
Последние произведения Айзмана написаны в форме ироничного еврейского бытописательства. Литератору было комфортно в этой нише. В суровое военное время читатели отдыхали с этой прозой, а его книги были популярны не только в еврейской среде.
К октябрьскому большевистскому перевороту Айзман не проявил открытой враждебности. Будучи тяжело больным, он написал покаянное письмо Горькому, в котором выразил желание «приобщиться к революционной действительности» и послужить «делу нового строительства». Однако этим планам не суждено было сбыться. 26 сентября 1922 года Давид Яковлевич Айзман скончался в Детском (Царском) Селе и был похоронен на Сестрорецком гражданском кладбище.
53-летний литератор не смог принять правила игры новой пролетарской литературы. Он жил и умер «еврейским Чеховым».
 Последний день зимы: в Николаеве вовсю цветут подснежники (фото, видео)
Последний день зимы: в Николаеве вовсю цветут подснежники (фото, видео) Обесточенный трамвай перекрыл движение по проспекту в Николаеве: образовались пробки (видео)
Обесточенный трамвай перекрыл движение по проспекту в Николаеве: образовались пробки (видео) На Южном Буге пожар – горят заросли камыша (видео)
На Южном Буге пожар – горят заросли камыша (видео) Шокирующая правда о наркотиках и трагический конец: на сцене николаевского театра показали «Вписку»
Шокирующая правда о наркотиках и трагический конец: на сцене николаевского театра показали «Вписку»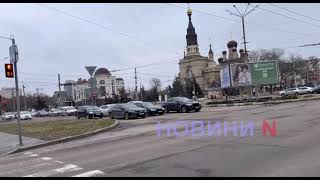 Минута молчания в центре Николаева: память погибших почтили не все
Минута молчания в центре Николаева: память погибших почтили не все Офицер ТЦК за 20 тысяч долларов оформлял «бронь» военнообязанным «под ключ», - ГБР
Офицер ТЦК за 20 тысяч долларов оформлял «бронь» военнообязанным «под ключ», - ГБР Спецназ ГУР наступает на юге Украины: подробности (видео)
Спецназ ГУР наступает на юге Украины: подробности (видео) Николаев атакуют вражеские беспилотники: горожане слышат их звуки (видео)
Николаев атакуют вражеские беспилотники: горожане слышат их звуки (видео) Так начиналась война в Николаеве: видео первых ударов по городу
Так начиналась война в Николаеве: видео первых ударов по городу













